
В 1974 году Тед Нельсон явил миру литературного кентавра — книгу, столь же эксцентричную, как и ее создатель. Чтобы оплачивать счета, Нельсон вынужденно читал лекции по социологии в Иллинойсском университете — хотя в душе был технологическим Че Геварой. Еще в свингующие шестидесятые он родил идею «гипертекста» — системы, связывающей документы невидимыми нитями, и окрестил ее «Проектом Ксанаду». Проект, правда, походил на линию горизонта — прекрасен, грандиозен, но вечно в стадии «почти готово».
Нельсона терзала одна несправедливость. Его коллеги-радикалы смотрели на компьютеры с суеверным ужасом — как средневековые крестьяне на алхимиков. Для бунтующей контркультуры тогдашние ЭВМ казались железными церберами. Нельсон не спорил: да, сейчас эти машины используют жестоко. Но в них он видел не кандалы, а ключ от темницы.
Содержание
→ На крючке
→ Мини-компьютеры для самостоятельной сборки
→ Любовь через time-sharing
→ Культура игр
Его манифест — библиографический перевертыш: два тома, сшитые «спина к спине», каждый со своей обложкой. С одной стороны, открывалась «Компьютерная библиотека» — ликбез, объясняющий, что такое ЭВМ и почему их стыдно бояться. С другой — «Машины снов», визионерский трактат о том, чем компьютер станет, когда его вырвут из цепких лап «технических жрецов».
Автор честно предупреждал:
«Моя цель проста: компьютеры должны служить людям, и немедленно. Без искусственных сложностей и без того, чтобы человек превращался в раба машины…
Эта книга — манифест личной свободы, объявление войны любым ограничениям и принуждению.
Вот вам лозунг, с которым не стыдно выйти на улицы: всю компьютерную власть — народу! Долой кибер-заумь!»
Если у кого‑то и оставались сомнения, что сердце автора бьется в унисон с ритмами шестидесятых, Нельсон развеял их, предъявив свои «верительные грамоты».
Список его «контркультурных достижений» выглядел как звонкая пощечина скучному миру. Рядом с вполне понятными «писателем» и «шоуменом» гордо значился титул «ветерана Великого Вудстока» и совершенно обезоруживающая строчка — «бывший ученик седьмого класса».
Вишенкой на торте стал, разумеется, его знак зодиака. В конце концов, какая может быть революция без гороскопа?

Манифест Нельсона — по сути, неопровержимая улика. Он доказывает популярную теорию: персональный компьютер — не просто железка, а наследие буйной контркультуры 60‑х.
Вряд ли можно списать на географическую случайность тот факт, что колыбель Apple качалась на тех же берегах залива, где еще вчера радикалы Беркли штурмовали баррикады, а в Хейт-Эшбери фанаты Grateful Dead ловили психоделические волны. У них была общая ДНК — жажда личного освобождения.
Нельсон не был единственным пророком, желавшим вручить народу огонь Прометея. Взять хотя бы Ли Фельзенштейна, который однажды бросил инженерный факультет Беркли, чтобы позже закончить его с триумфом. У него куда более солидное политическое досье, чем у Нельсона. В 70‑х он тратил время на такие проекты, как Community Memory — по сути, цифровую ��оску объявлений. Терминалы стояли в общественных местах, доказывая, что соцсети возможны и в доинтернетную эпоху.
В Менло-Парке действовал Боб Альбрехт со своей «Народной компьютерной компанией» (дословно People's Computer Company). Название не врало: любой прохожий мог зайти с улицы и прикоснуться к священной машине.
И Фельзенштейн, и Альбрехт не были городскими сумасшедшими — они стали отцами-основателями индустрии: первый как блестящий «железячник», второй — как издатель и проповедник.
Два главных летописца той эпохи — Стивен Леви с его «Хакерами» и дуэт Фрайбергера и Суэйна с книгой «Пожар в долине» — сходятся в одном: персональный компьютер родился не в стерильных лабораториях корпораций, а в головах длинноволосых бунтарей.
По их мнению, мы обязаны появлением ПК таким персонажам, как Фельзенштейн и Альбрехт — тем самым «аппаратным хакерам» с Западного побережья, для которых технологии были не бизнесом, а инструментом личного освобождения.
Позже Джон Маркофф развернул эту мысль в полноценный исторический трактат с психоделическим названием «Что сказала Соня: как контркультура шестидесятых сформировала индустрию ПК». Стюарт Бранд в 1995 году подвел черту под спорами одной фразой в журнале Time: «Мы всем обязаны хиппи».
Эта история невероятно привлекательна. В ней только один крошечный изъян: она не совсем верна.
Теория о том, что компьютерную революцию совершили исключительно длинноволосые бунтари, разбивается о суровую логику. Влияние контркультуры не было ни необходимым, ни достаточным условием для взрыва интереса к ПК.
Не было необходимым, потому что искра, из которой разгорелось пламя — легендарный Altair, — была добыта людьми, бесконечно далекими от идеалов Вудстока и левого радикализма. Эд Робертс был ветераном ВВС из Альбукерке, а Лес Соломон — прагматичным нью-йоркским редактором. Нужна уж очень богатая фантазия, чтобы записать их дуэт в ряды хиппи-идеалистов.
Не было достаточным, потому что теория объясняет лишь предложение, но игнорирует спрос. Допустим, бунтари из Залива хотели продавать «цифровую свободу». Но почему тысячи людей вдруг решили эту свободу купить? Большинство заказчиков Altair не носили фенечек и не жили в коммунах.
Если смотреть на мир через очки Сан-Франциско, «контркультурный миф» выглядит правдоподобно. Но компьютерная лихорадка была феноменом национального масштаба. Чеки и зак��зы летели в Альбукерке со всех уголков Америки. Откуда же взялась эта армия любителей, если не из палаточных лагерей хиппи?

Исполняем желания на Новый год ?
Напишите письмо Тирексу и получите инфраструктурную поддержку для проекта.
На крючке
В 1950‑х годах в стенах лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) случилась классическая история из серии «искали Индию, а открыли Америку». Исследователи синтезировали электронную сущность, которой в последующие десятилетия предстояло перевернуть мир вверх дном.
Ирония ситуации в том, что этот технологический прорыв родился как случайный «побочный эффект» суровой работы над системой противовоздушной обороны. Но результат оказался неожиданно притягательным — если не сказать аддиктивным. Правда, «подсаживались» на него люди весьма специфического склада: те, в ком детское любопытство и творческая искра парадоксальным образом уживались с фанатичной любовью к сухой логике и математике.
Электронный компьютер образца 1940‑х годов задумывался не как «искусственный интеллект», а как неутомимая замена комнаты, набитой живыми людьми-вычислителями. Схема работы напоминала сдачу белья в прачечную: вы вручали машине набор инструкций — будь то моделирование ядерного гриба или расчет траек��ории для гаубицы — и смиренно ждали, когда заказ будет готов.
Вокруг этой модели вырос целый культ «пакетной обработки». Прямой доступ к «телу» электронного идола простым смертным был заказан. Программист приносил стопку перфокарт и передавал их в руки специально обученных жрецов — операторов. Те скармливали картонную колоду машине, а затем возвращали результат на новой порции распечаток.
Чаще всего ритуал заканчивался разочарованием: пользователь забирал длинные листы с прыгающими строками, обнаруживал ошибку (баг) и, тихо бормоча ругательства, уходил переписывать код, чтобы запустить карусель заново. К началу 1960‑х годов главным распорядителем этого бала стала корпорация IBM. Гигант ловко использовал свой опыт в создании механических счетных машин, чтобы установить тотальную монополию и в мире электроники.
Однако военным нужна оперативность. Проблемы могут возникать внезапно, и решать их нужно сразу же, а не в порядке живой очереди с колодой перфокарт. Генералам требовался «компьютер реального времени», способный выстреливать ответы с интервалом в секунды.
Первый шаг в этом направлении сделали в MIT. Проект начинался вполне мирно — как авиасимулятор под руководством инженера-электрика Джея Форрестера. Но история любит иронию: подули ледяные ветры холодной войны, и безобидный тренажер мутировал в грандиозную систему противовоздушной обороны SAGE (Semi-Automated Ground Environment).
Этот гигант обосновался в Линкольнской лаборатории — правительственном объекте в тридцати милях от студенческих кампусов MIT. И, как это часто бывает с великими открытия��и, SAGE совершил революцию случайно. Созданный, чтобы следить за вражескими самолетами в небе, он попутно породил на земле совершенно новую форму вычислительной техники.

Система SAGE требовала не просто вычислителей, а настоящих электронных атлантов, создание которых доверили, конечно же, IBM. В каждом центре ПВО, разбросанном по карте Северной Америки, планировали ставить по два таких гиганта. Дублирование было обязательным, чтобы в случае «обморока» одной машины вторая тут же подставила свое цифровое плечо.
Вместо стопок перфокарт операторы смотрели в завораживающее зеленое свечение электронно-лучевых трубок. На этих экранах плясали радарные метки, и человек мог одним движением запросить досье на любую подозрительную точку или, если дело пахло керосином, поднять по тревоге истребители.
Поначалу «мозги» системы хотели строить на вакуумных лампах — стандартном, но горячем и капризном решении 50‑х. Однако изобретение транзистора спутало карты, открыв дорогу к компактности и надежности. Чтобы доказать, что твердотельная электроника способна тянуть лямку оборонзаказа, Уэсли Кларк и Кен Олсен в 1955–56 годах собрали экспериментальный транзисторный компьютер TX‑0. Этот «малыш» блестяще подтвердил концепцию, а уже к 1958‑му на свет появился его более мощный и внушительный наследник — TX‑2.
Самая изящная ирония истории в том, что главной фишкой этих компьютеров стала их… полная бесполезность. Едва доказав, что транзисторная магия работает, прототипы стали для проекта SAGE чем‑то вроде архитектурного макета после окончания стройки. В итоге новосозданные баснословно дорогие игрушки перешли в практически единоличное пользование Уэсли Кларка.
В те годы балом правила «пакетная обработка» — священная корова эффективности, призванная выжимать из драгоценного железа каждую секунду простоя. Но Кларка эти бухгалтерские страдания волновали мало. В ДНК компьютеров Lincoln Lab, ведущих родословную от авиасимуляторов, был зашит принцип живого диалога с пилотом. Кларк решил не ломать традиции. Он сделал ставку на то, что «компьютерный помощник», отвечающий здесь и сейчас, даст науке куда больше, чем бездушный молотильщик перфокарт, заставляющий ждать ответа часами.

Благодаря этому карт-бланшу сотрудники MIT и лаборатории Линкольна получили то, о чем остальные могли только мечтать: право на приватную аудиенцию с электронными гигантами TX‑0 и TX‑2. Прямой диалог с машиной вызывал моментальное привыкание.
Вместо томительного ожидания результатов пакетной обработки, инженеры получили мгновенную обратную связь. Цикл «написал — проверил — исправил» сжался до секунд, превратив рутинную отладку кода в захватывающий квест или решение сложной головоломки.
Контраст с общепринятыми стандартами конца 50‑х был разительным. Теперь единственным «узким местом» системы стала не очередь к оператору, а скорость мысли и беглость пальцев самого пользователя. Стоило человеку поймать такой ритм, как он проваливался во временну́ю дыру: часы за терминалом пролетали так же незаметно, как минуты.
Дж. К. Р. Ликлидер был человеком, которого в машинном зале ожидали увидеть меньше всего — профессиональным психологом. Его наняли как специалиста по «человеческому фактору», чтобы помирить операторов SAGE с их электронными подопечными и наладить между ними хоть какое‑то подобие диалога.
Но стоило Ликлидеру самому сесть за консоль экспериментального TX‑0 в лаборатории Линкольна, как профессиональный интерес сменился почти религиозным экстазом. Это был не просто тест, а озарение, сравнимое с ударом молнии.
С этого момента скромный психолог превратился в пламенного проповедника. Он начал нести в массы идею «симбиоза человека и компьютера», утверждая, что интерактивная машина — это не просто калькулятор-переросток, а интеллектуальный допинг, способный разогнать возможности человеческого мозга до невиданных скоростей:
«Конечно, привилегия ставить цели и искать мотивацию останется за людьми... ну, по крайней мере, в первые годы. Нам достанется роль архитекторов: мы будем выдвигать гипотезы, задавать вопросы и придумывать модели.
Железу же уготована участь идеального клерка. Оборудование будет отвечать, оживлять наши схемы, проводить симуляции и превращать массивы данных в понятные графики. По сути, компьютер возьмет на себя всю „канцелярскую“ рутину, заполняя паузы между озарениями своего создателя».
В ряды неофитов вступил и Иван Сазерленд. Для докторской диссертации в MIT он превратил суровый вычислитель TX‑2 в лаборатории Линкольна в первый в мире цифровой кульман, написав программу Sketchpad.
Позже Сазерленд сменил прописку на Университет Юты, где окончательно застолбил за собой статус одного из отцов-основателей компьютерной гр��фики. Пока другие натаскивали машины считать, он научил их рисовать.
Лаборатория Линкольна без сантиментов списала старичка TX‑0 в утиль, как только на горизонте замаячил новенький TX-2. Компьютер отправили в почетную ссылку в Исследовательскую лабораторию электроники (RLE) при MIT, где он неожиданно обрел вторую жизнь, став идолом, алтарем и единственной любовью для новой субкультуры — хакеров. Эти «цифровые наркоманы» были готовы караулить в коридорах далеко за полночь, лишь бы выкроить лишнюю минуту наедине с машиной.
Ощущение тотального контроля над электронным мозгом они описывали в выражениях, от которых покраснел бы и поэт. Одним приходило на ум пилотирование истребителя, другим — игра на музыкальном инструменте. Третьи шли еще дальше, сравнивая кодинг и первую любовь. Конечно, это были гиперболы — вроде знаменитого признания Арнольда Шварценеггера, который с тем же томным придыханием говорил об экстазе во время пампинга.
В этом закрытом мужском клубе дамам места не нашлось. В хакерской библии Стивена Леви женские имена отсутствуют как класс. Впрочем, удивляться нечему: в те годы MIT открывал двери для студенток с явным скрипом — формально учиться им не запрещали, но смотрели на них примерно так же, как на досадную ошибку в коде.
Парадокс в том, что в 1960‑м году профессия программиста вовсе не была сугубо мужской вотчиной. Женщины занимали добрую треть рабочих мест в индустрии. Но здесь пролегал глубокий водораздел. Женщины царили в «скучном» мире корпораций и госучреждений — это были аккуратные сотрудницы, обрабатывающие данные строго с девяти до пяти.
А вот ряды «хакеров» — растрепанных фанатиков, стучащих по клавишам до рассвета не ради зарплаты, а ради чистого дофаминового восторга, — состояли исключительно из мужчин. Похоже, именно сильный пол оказался фатально предрасположен к тому, чтобы без остатка растворяться в стерильных лабиринтах цифровой логики. Вероятно, именно эта странная страсть к «искусству ради искусства» и превратила информатику в то «мужское общежитие», которым она стала впоследствии. Но это тема для отдельной социологической драмы, а мы вернемся к нашим баранам умникам.
Мини-компьютеры для самостоятельной сборки
Пока Кларк видел в TX‑0 идеальный научный инструмент, его партнер Кен Олсен разглядел в нем нечто куда более прозаичное — товар.
Плотное сотрудничество с IBM в рамках проекта SAGE оставило у Олсена стойкую аллергию на неповоротливую бюрократию «Голубого гиганта». Решив, что сможет работать эффективнее, он взял в напарники еще одного выпускника Линкольна, Харлана Андерсона, привлек финансирование от одного из первых венчурных фондов и открыл свое дело.
Правда, на старте пришлось пойти на лингвистическую хитрость. Глава фонда дал Олсену совет, который сегодня звучит как анекдот: «Только не используй слово „компьютер“». В глазах инвесторов этот термин был синонимом «дорогостоящей войны с IBM», а значит — гарантированного самоубийства.
Олсен намек понял и назвал свою компанию, которая собиралась производить компьютеры, максимально невинно — Digital Equipment Corporation, или просто DEC.
В 1957 году Олсен обосновался в декорациях, достойных промышленной готики — в старой текстильной фабрике на реке Ассабет, всего в получасе езды от своей альма-матер, лаборатории Линкольна. Эти краснокирпичные стены служили домом для DEC вплоть до 90‑х, став безмолвными свидетелями как зенита славы Олсена, так и начала заката его империи.
Сам Кен Олсен был человеком, которого проще представить на воскресной проповеди, чем на баррикадах революции. Трезвый, набожный скандинав, он прожил жизнь образцового обывателя в пригородах Массачусетса, а старость встретил в тихой Индиане. Найти фигуру, менее похожую на героя бунтарских шестидесятых, было бы непростой задачей даже для детектива.
И вот вам главный поворот истории: именно этот консервативный джентльмен стал Че Геварой компьютерного мира. Именно его компания подняла «Веселого Роджера» над рынком, объявив войну тоталитарному режиму «IBM‑изма». DEC вынесла «священный огонь» интерактивных вычислений из закрытых лабораторий MIT, щедро «осыпав» этой магией техно-энтузиастов по всей стране.
В 1959 году DEC вывела на рынок своего первенца — PDP‑1. За скучной аббревиатурой (Programmed Data Processor — программируемый обработчик данных) скрывался прямой идейный наследник легендарного TX‑0. Когда в 1961 году один такой экземпляр подарили MIT, то местные хакеры, истосковавшиеся по «железу», приняли его как родного.
Но настоящая революция грянула в 1965‑ом с выходом PDP‑8. Этот аппарат рвал шаблоны: размером с синий уличный почтовый ящик и ценой всего в 18 000 долларов — сущие копейки по меркам той эпохи.
Вскоре кто‑то остроумный (и, разумеется, это был не чопорный пуританин Олсен) окрестил подобный класс машин «мини-компьютерами» — явный реверанс в сторону мини-юбок, которые тогда как раз сводили мир с ума. Маркетологи DEC подхватили волну, описывая PDP‑8 как «доступные, покладистые и персональные машины», намекая, что теперь компьютер — это не идол за стеклом, а вполне земной приятель.
![Рекламный ролик 1966 года, изображающий различные модели PDP-8 в окружении милых плюшевых мишек [ Datamation, октябрь 1966]. Рекламный ролик 1966 года, изображающий различные модели PDP-8 в окружении милых плюшевых мишек [ Datamation, октябрь 1966].](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/8d8/44a/b19/8d844ab19bece01551f8fc8370407d66.jpeg)
До этого момента у «бюджетных» компьютеров была одна постыдная тайна: их кратковременная память полагалась на вращающиеся магнитные барабаны. Это накладывало на скорость вычислений жесткий механический потолок — машина просто не могла думать быстрее, чем крутился вал.
PDP‑8 сбросил эти оковы, перейдя на молниеносную память на магнитных сердечниках. Высокоскоростные вычисления, ранее доступные лишь избранным, внезапно стали по карману небольшим научным фирмам и скромным лабораториям.
Универсальность машины поражала воображение. PDP‑8 трудились не только в стерильных кабинетах, но и в пыли заводских цехов, и даже — представьте себе сюрреализм картины — монтировались прямо на тракторы.
За пятнадцать лет DEC продала 50 000 этих неутомимых трудяг. Успех не просто породил армию конкурентов и новую индустрию мини-компьютеров, но и эхом отозвался в будущем, вдохновив инженеров на создание первого микропроцессора Intel 4004.
В начале 1960‑х IBM под скипетром Томаса Уотсона-младшего не просто заняла рынок мейнфреймов США (читай: всего мира), а забетонировала его под себя. Армия продавцов, чье дружелюбие прямо зависело от процента с продаж, выстраивала с клиентами отношения такой крепости, что разорвать их было сложнее, чем сицилийские узы.
Это была игра вдолгую: IBM не продавала машины, а сдавала их в аренду. В комплекте с ежемесячным счетом клиент получал уютную «золотую клетку»: круглосуточный сервис, гору периферии (наследство эры перфокарт), системный софт и даже прикладные программы для расчета зарплат и складского учета.
Вместе с «железом» IBM навязывала и новую корпоративную иерархию. Предполагалось, что между компьютером и реальным потребителем информации должна стоять специальная прослойка — жрецы отдела обработки данных. Именно эти люди управляли машиной и вели бесконечные переговоры с поставщиком, пока обычные сотрудники, которым вычисления были нужны на самом деле, терпеливо ждали своих распечаток за дверью.
Культура DEC строилась на принципе «от противного»: все, что считалось священным в IBM, предавалось анафеме. Это была настоящая контркультура в деловых костюмах.
Олсен упразднил институт корпоративных нянек. Он полагал, что если человек достаточно умен, чтобы быть инженером или ученым, то как‑нибудь разберется с компьютером без помощи жрецов из техподдержки. В мире DEC пользователь был настоящем королем: сам настраивал систему, сам писал софт и сам же его администрировал. Полная свобода — и полная ответственность.
Справедливости ради заметим, что и в недрах IBM водились светлые головы, способные оценить прелесть интерактива. Например, Энди Кинслоу в середине 60‑х пытался пробить проект по разделению времени (об этой технологии мы еще поговорим). Он мечтал дать своим коллегам тот же наркотический восторг от работы с консолью, на котором плотно сидели хакеры из MIT.
Но корпоративный иммунитет «Голубого гиганта» отторг чужеродный орган. Итоговый продукт — система TSS/360, выпущенная в 1967 году, — оказалась настолько технически беспомощной, что IBM предпочла сделать вид, будто это недоразумение никогда не появлялось.
Все упиралось в несовместимость культурных кодов. Маркетинговая машина IBM была смазана и настроена под нужды корпоративных бюрократов — тех, кто заведовал процессингом данных. Этим людям требовались мощные системы пакетной обработки, вылизанный софт и круглосуточная опека техподдержки.
А вот настоящих технарей — инженеров и ученых, которые мечтали сами жать на кнопки и не боялись, фигурально выражаясь, испачкать руки в машинном масле, — «Голубой гигант» упорно игнорировал.
Неудивительно, что эта аудитория проголосовала кошельком за DEC и других дерзких новичков вроде Scientific Data Systems. Как язвительно заметил один из сотрудников этого успешного стартапа 60‑х:
«Конечно, в те годы наука купалась в деньгах, но исследователи — это совсем не то же самое, что бизнесмены, сидящие на окладе. Им был нужен компьютер, но относились они к нему не как к калькулятору, а как к объекту страсти.
Они были очарованы нашими машинами и любили их так, как любят Ferrari или женщину. И эта любовь была слепа: если компьютер начинал капризничать, ему прощали все — точно так же, как прощают маленькие слабости сногсшибательной красотке».
Клиентура DEC напоминала список гостей на закрытой вечеринке для интеллектуальной элиты: федеральные лаборатории с казенными бюджетами, частные инженерные бюро, «гиковские» департаменты промышленных конгломератов и, разумеется, университеты — вечные инкубаторы прогресса.
Всех их объединяла аллергия на ожидание. Работа шла исключительно в режиме реального времени, где компьютер выступал не далеким идолом, а расторопным напарником. Он напрямую общался с оператором или, засучив свои цифровые рукава, управлял сложным «железом».
Спектр задач был пестрым, как ярмарочный балаган: здесь машина «на лету» щелкала инженерные расчеты для химических магнатов, там — управляла трассировкой, выуживая данные из физических экспериментов, а в соседней лаборатории — помогала психологам копаться в лабиринтах человеческого сознания.
Для обмена опытом и софтом адепты DEC сколотили собственное братство — DECUS (Digital Equipment Computer Users Society — общество пользователей цифрового оборудования и компьютеров).
У клиентов IBM тоже был свой клуб по интересам — организация с демократичным названием SHARE («делиться»), основанная еще в 1955 году. Но если в DECUS царила анархия свободного обмена, то SHARE больше напоминала закрытую масонскую ложу, живущую по строгому корпоративному уставу.
В мире IBM аксиомой считалось наличие «вычислительного центра» — этакого храма, отделенного от грешной земли. Членами клуба могли стать только верховные жрецы — начальники этих центров. Именно они собирались, чтобы с важным видом обсуждать операционные системы и ассемблеры.
Простым смертным — конечным пользователям, которые сидели где‑то снаружи и ждали свои перфокарты, — вход в это элитное заведение был заказан. В мире DEC такой классовой сегрегации не существовало по простой причине: здесь пользователь и оператор чаще всего были одним и тем же человеком.
![Мой отец, исследователь, специализирующийся на компьютеризированных медицинских картах, был частью культуры DEC и соавтором как минимум одной статьи для DECUS, «Информационные системы амбулаторной помощи, написанные на BASIC‑Plus», опубликованной в сборнике трудов DECUS (осень 1973 г.). На фотографии вверху слева, 1973 год, он изображен в терминальной комнате своего исследовательского института PDP‑11 [Институт Регенстрифа]. Мой отец, исследователь, специализирующийся на компьютеризированных медицинских картах, был частью культуры DEC и соавтором как минимум одной статьи для DECUS, «Информационные системы амбулаторной помощи, написанные на BASIC‑Plus», опубликованной в сборнике трудов DECUS (осень 1973 г.). На фотографии вверху слева, 1973 год, он изображен в терминальной комнате своего исследовательского института PDP‑11 [Институт Регенстрифа].](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/2ea/059/61c/2ea05961cc6b64624fb4d32f583592c3.jpeg)
Как и их коллеги из стана «врага» (то есть SHARE), сообщество DECUS поддерживало обширную библиотеку софта. В их закромах хранилось все, что нужно для цифрового счастья: драйверы для общения с периферией, ассемблеры и компиляторы, превращающие человеческие каракули в понятный машине код, а также отладчики для охоты на «жучков». Отдельной полкой лежали математические функции — своего рода программные костыли для железа, которое в те годы еще не знало, с какой стороны подступиться к тригонометрии, логарифмам и возведению в степень.
Не стоит думать, что это была стихийная свалка кода. Поддержание порядка требовало бюрократии, пусть и с человеческим лицом. В 1963 году, например, пользователи пожертвовали в общий котел пятьдесят программ. Большинство из них прошли через чистилище двойной проверки коллегами, а семнадцать избранных даже получили официальный знак качества от Комитета по программированию DECUS — органа, звучащего почти так же важно, как Сенат, только без тог.
Опьяненные магией интерактивных вычислений, фанаты DEC уверовали, что вот‑вот перевернут мир — от школьных классов до больничных палат. Однако в революционном угаре они порой теряли связь с реальностью, приписывая машине свойства волшебной палочки.
Отрезвляющий душ пролился на одном из собраний DECUS. Врач ВВС Джозеф Мунди, наблюдая за этим парадом техно-оптимизма, с мягкой, почти отеческой иронией осадил «компьютерных энтузиастов». Он деликатно напомнил собравшимся, что даже у великого PDP есть, скажем так, некоторые нюансы, когда дело доходит до постановки медицинских диагнозов живым людям.
Хотя сбросить DEC с рыночного Олимпа так никому и не удалось, успех PDP‑8 в конце 60‑х спровоцировал настоящий бум подражателей. Рынок мини-компьютеров расцвел пышным цветом.
В гонку включились все: от дерзких стартапов до промышленных гигантов. Самым ярким примером первых стала Data General — компания, основанная перебежчиками из той же DEC. Бунтовщики не стали далеко бегать и окопались по соседству — чуть выше по течению той ��е реки Ассабет, в городке Хадсон. Вслед за ними подтянулась и тяжелая артиллерия в лице мастодонтов электроники: Honeywell, Hewlett-Packard и Texas Instruments.
Счет проданных устройств пошел на тысячи. Это означало, что тысячи инженеров и ученых наконец‑то испытали то пьянящее, почти запретное чувство: когда компьютер — это не абстрактный идол за толстой стеной, а личный инструмент, жужжащий прямо на рабочем столе.
Даже в цитадели прогресса, Массачусетском технологическом институте, администрация смотрела на любовные игры хакеров с TX‑0 и PDP‑1 как на святотатство. В глазах бухгалтерии эти «шалости» были гротескным разбазариванием драгоценного машинного времени.
Однако ситуация в корне изменилась, когда компьютеры подешевели до «смешных» 10−20 тысяч долларов. Руководители отделов, купившие себе такие игрушки, перестали трястись над каждой секундой простоя. Да и кому было следить за дисциплиной? Штатных надзирателей-операторов к этим малюткам не приставляли.
Оставшись без присмотра, пользователи тут же выбрали путь наименьшего сопротивления, то есть — комфорт. Ручное управление, интерактивность, живое общение с терминалом — все то, что раньше считалось непозволительной роскошью.
И пока тысячи инженеров и ученых наслаждались пьянящим чувством обладания собственным «электронным мозгом», на горизонте уже маячила новая технология. Ей предстояло взять этот элитарный опыт и растиражировать его для куда более широкой публики.
Любовь через time-sharing
Как мы уже убедились, обитатели MIT и его окрестностей «подсели» на интерактивные вычисления еще к 1960 году — задолго до того, как PDP‑8 сделал это удовольствие доступным.
Но здесь возник конфликт скоростей, достойный пера драматурга. Электронный мозг был готов щелкать миллионы операций в секунду, но в режиме диалога этот титан вынужден был смиренно ждать, пока его белковый оператор соизволит сформулировать мысль и нажать на клавишу. В эти паузы колоссальная мощь уходила в небытие.
Для администраторов — тех самых хранителей бюджета, у которых при виде лишних трат начинался нервный тик — зрелище было невыносимым. Позволить машине с шести‑ или семизначным ценником «курить бамбук», пока ученый чешет в затылке? С их точки зрения, использовать драгоценные вычислительные ресурсы только ради комфорта инженеров было не просто расточительством, а преступлением против бухгалтерии.
А что, если превратить этот простой в преимущество? Решение оказалось изящным, как карточный фокус.
Идея заключалась в том, чтобы подключить к одному электронному мозгу четыре, сорок или даже четыреста терминалов. Пока один пользователь задумчиво смотрит в экран, процессор мгновенно переключается на запрос соседа или в фоновом режиме «грызет» пакетные задачи. Для человека за клавиатурой создавалась полная, сладкая иллюзия обладания: ему казалось, что машина принадлежит только ему. Если система не захлебывалась от нагрузки, никто и не подозревал, что цифровой слуга работает на несколько фронтов одновременно.
Главным проповедником этой концепции — разделения времени — стал Джон Маккарти. Математик и пионер искусственного интеллекта перебрался из Дартмутского колледжа в MIT не от хорошей жизни, а по любви: в родном Дартмуте компьютеров попросту не было, а Маккарти не мог без них жить.
Медлительность пакетной обработки доводила его до белого каления, мешая экспериментам. Поэтому он предложил соломоново решение, призванное примирить всех: дать ученым желанный интерактив, а администраторам — стопроцентную загрузку их драгоценных мощностей.
Крестовый поход Маккарти увенчался успехом. В Массачусетском технологическом институте группа под командованием Фернандо «Корби» Корбато создала CTSS — cовместимую систему разделения времени.
Слово «совместимая» здесь было ключевым дипломатическим маневром. Оно означало, что новой системе не нужно свергать старую власть: CTSS мирно уживалась на одном IBM-мэйнфрейме с традиционной пакетной обработкой, действуя параллельно, как соседи на кухне в коммуналке.
Маккарти на этом не остановился. В консалтинговой фирме Bolt, Beranek and Newman (BBN), которая была связана с MIT группой общих интересов, он провернул еще один трюк: запустил примитивное разделение времени на скромном PDP‑1. Это доказало революционный тезис: чтобы делить время, не обязательно владеть гигантским мэйнфреймом.
Вскоре эта идея пошла в народ. Даже малютка PDP‑8, при наличии достаточного объема памяти, умудрялась жонглировать запросами от двадцати четырех терминалов одновременно. Размер, как выяснилось, не имел решающего значения.
Однако самые решительные шаги по внедрению интерактивных вычислений и технологии разделения времени были сделаны в Дартмутском колледже — бывшей вотчине Джона Маккарти.
Революцию возглавил дуэт, который трудно было назвать типичным. Джон Кемени (заведующий кафедрой математики) подбил своего коллегу Томаса Курца (служившего связным с вычислительным центром MIT) на грандиозную авантюру: создать собственный компьютерный центр. Но сделать это не «как у людей», а по‑своему.
Кемени был настоящим феноменом. Блестящий венгерский еврей, бежавший от нацистов в США, он принадлежал к тому же золотому поколению гениев, что и фон Нейман или Эдвард Теллер, хотя и был значительно моложе. Его талант был настолько очевиден, что в 1943 году, будучи еще «зеленым» студентом Принстона, он уже работал над Манхэттенским проектом.
Его партнер, Томас Курц, имел менее драматичную биографию — уроженец пригорода Чикаго и аспирант элитного принстонского матфака. Однако его страсть лежала не в плоскости высоких абстракций. Сразу после колледжа, в начале 50‑х, Курц с головой ушел в численный анализ. По сути, он занимался информатикой задолго до того, как мир вообще договорился, что это такое, предпочитая «железо» и алгоритмы традиционной математике.

Эта парочка энтузиастов стартовала в начале 60‑х, вооружившись скромным Librascope LGP‑30 — компьютером с памятью на магнитном барабане, который, тем не менее, умел работать в интерактивном режиме.
К тому моменту оба профессора уверовали в нехитрую истину: компьютеры — это не просто калькуляторы-переростки, а явление цивилизационного масштаба. Наблюдая, как студенты укрощают LGP‑30, продираясь через дебри Ассемблера, Кемени и Курц пришли к революционному выводу: программирование должно стать обязательной частью гуманитарного образования. Код, по их мнению, следовало преподавать наравне с философией и историей.
Впрочем, упражнения с хрустальным шаром были тогда в моде. Ученые мужи наперебой строчили трактаты о том, как электронный мозг перекроит юриспруденцию, библиотеки и само понятие частной жизни. Неутомимый же Джон Маккарти еще в 1961 году выступал в роли Нострадамуса, предрекая появление «компьютерной коммуналки»: он описывал мир, где вычислительная мощь будет течь в дома и офисы по телефонным проводам, словно вода из крана или электричество из розетки.
Курц предложил идею, звучавшую для той эпохи как научная фантастика: привезти в Дартмут мощный компьютер с разделением времени и дать к нему прямой доступ всем студентам. Это должен был быть цифровой аналог публичной библиотеки — никаких закрытых дверей.
Чтобы воплотить мечту в жизнь, потребовался слаженный дуэт. Кемени пустил в ход свои политические таланты (которые позже вознесут его в кресло президента университета), уламывая руководство. Курц тем временем выбивал деньги, добившись грантов от Национального научного фонда (NSF).
Нашлись и союзники в бизнесе. General Electric, отчаянно пытавшаяся потеснить IBM, расщедрилась на 60‑процентную скидку. В итоге Дартмут получил сразу две машины: мэйнфрейм GE‑225 для вычислений и коммуникационный процессор Datanet‑30, который жонглировал данными между «мозгом» и терминалами пользователей.
Эту связку назвали DTSS (Dartmouth Time-Sharing System — Дартмутская система разделения времени).
Выгода вышла далеко за пределы кампуса. Университет превратился в региональный хаб: к DTSS по телефонным линиям подключались колледжи Новой Англии и даже обычные средние школы. К 1971 году сеть охватила пятьдесят учебных заведений, открыв доступ к «цифровому оракулу» для 13 000 пользователей.

Но амбиции DTSS не ограничились ролью «первого парня на деревне». Эта система сделала два царских подарка, которые навсегда изменили ДНК персональных компьютеров.
Первый — язык программирования BASIC.
Конечно, среди студентов встречались уникумы, способные думать на Ассемблере, но для большинства нормальных людей тот был чем‑то вроде древнешумерского. Кемени и Курц понимали: чтобы пустить за терминалы всех, нужен язык высокого уровня, абстрактный и дружелюбный.
Даже FORTRAN, тогдашний король науки и техники, грешил излишней загадочностью. Курц любил приводить в пример тамошний цикл:
DO 100, I = 1, 10, 2Поди разбери: порядок цифр — это 1, 10, 2 или все‑таки 1, 2, 10? И нужна ли там запятая, или компилятор просто обидится и уйдет в себя?
Профессора́ решили упростить правила игры. Руками своих самых талантливых студентов они создали язык, который не требовал дешифратора. Взгляните на тот же цикл в их исполнении:
FOR I = 1 TO 10 STEP 2Вместо математических ребусов — понятные английские слова. Синтаксис BASIC читался не как заклинание, а как обычное, человеческое предложение.
Вторым вкладом Дартмута стал сам «архитектурный чертеж» системы, который General Electric, повинуясь здоровому капиталистическому инстинкту, позаимствовала для своих нужд. Причем дважды.
Связка из GE‑235 и Datanet‑30 превратилась в коммерческий сервис GE Mark I, а более поздняя версия DTSS на базе GE‑635 легла в основу Mark II. К 1968 году торговля «цифровыми секундами» превратилась в бойкий рынок объемом в 70 млн долларов. Схема была проста: терминал подключался через телефонную сеть, а тарифицировался по времени — как за такси.
Львиную долю этого пирога — более 40% и десятки тысяч абонентов — держала GE, паразитируя (в хорошем смысле) на дартмутских идеях.
И здесь история делает поворот, достойный лучшей новеллы. Одним из платных подписчиков стала школа Lakeside в Сиэтле. Местный «Клуб матерей», вероятно, продав немало домашней выпечки, собрал средства на покупку терминала для доступа к системе GE.
Дамы просто хотели, чтобы у детей было все лучшее. Они и не подозревали, что, оплачивая счета за доступ к BASIC, по сути, финансируют рождение империи Microsoft. Ведь среди школьников, прилипших к этому терминалу, были восьмиклассник Билл Гейтс и десятиклассник Пол Аллен.

Маркетинговая машина General Electric, разогнавшая BASIC по своим сетям разделения времени, сработала эффективнее любого вирусного ролика. Популярность языка росла с такой скоростью, что игнорировать ее стало невозможно. Вскоре даже конкуренты — от либеральной DEC до застегнутой на все пуговицы IBM — были вынуждены сдаться и выпустить свои версии BASIC.
К 1970‑м годам, во многом стараниями GE, BASIC стал настоящим lingua franca — языком межнационального общения в мире интерактивных вычислений.
И тут вскрылась ироничная правда о человеческой природе. Итак, получен доступ к передовым вычислительным мощностям и универсальному языку программирования. О чем же больше всего мечтали пользователи? О сложных расчетах? О научных прорывах?
Как бы не так. Они жаждали игр.

Бесплатная миграция в Selectel
Начислим до 1 000 000 бонусов на два месяца. А наши инженеры подготовят план и поддержат на всех этапах миграции.
Культура игр
Куда бы ни проникал вирус интерактивности, следом за ним неизменно тянулся шлейф игромании.
Это касалось не только появления собственно компьютерных игр — первых робких пиксельных развлечений. Изменился сам дух общения с «железом». Пользователи вдруг обнаружили, что этот многотонный шкаф с мигающими лампочками — превосходная, хоть и безумно дорогая игрушка.
Процесс написания кода и диалога с машиной превратился из суровой производственной необходимости в чистое искусство, в самоцель. Решение «серьезных задач» отошло на второй план, уступив место главному — удовольствию от процесса.
Самым громким манифестом новой игровой культуры в раннем MIT стала битва рефлексов и силы воли под названием «Spacewar!»
PDP‑1 казался настоящим пришельцем из будущего. В то время как его собратья оставались слепыми ящиками, он щеголял двухмерным графическим дисплеем — круглым, завораживающим экраном на электронно-лучевой трубке.
Чтобы оценить масштаб чуда, нужно понимать: вплоть до середины 70‑х основным языком общения с машиной был сухой треск телетайпа. Такие устройства, рожденные для телеграфа, работали как дистанционные пишущие машинки: запрос отбивался — улетал по проводам — а ответ компьютера механически отстукивался обратно на бумагу.
PDP‑1, конечно, повезло с наследственностью. Благодаря своим корням в системе ПВО SAGE, он получил тот самый экран. Изначально задуманный для отслеживания суровых радарных меток, в руках хакеров он превратился в окно в открытый космос.
Хакеры из MIT уже успели «размять пальцы», создав несколько ранних игр и графических демок на старичке TX‑0. Но настоящий прорыв совершил человек, которого даже не было в штатном расписании университета.
Стивен «Слаг» Рассел, энтузиаст, просто ошивавшийся при лаборатории (то, что называется hanger‑on), создал первую версию «Spacewar!». Вдохновение он черпал в космических операх Э. Э. «Дока» Смита.
К февралю 1962 года игра обрела форму: два пилота управляли ракетами на экране, пытаясь превратить корабль соперника в облако космической пыли с помощью торпед.
Однако хакерское братство не умело останавливаться на достигнутом. Коллеги Рассела тут же набросились на код с улучшениями. Они добавили звездный фон — причем астрономически достоверный, соответствующий реальному небу! — поместили в центр экрана Солнце с работающей гравитацией, внедрили прыжки в гиперпространство для экстренного спасения и прикрутили счетчик очков.
Результат превзошел все ожидания. Вышла уже не примитивная поделка, а визуально завораживающая, напряженная дуэль, требующая отточенных рефлексов. Хакеры MIT были обречены: теперь их ночи проходили в бесконечных космических баталиях.
Зависимость «Spacewar!» от дорогого графического дисплея, конечно, сужала круг избранных. Но игра нашла новый дом в Стэнфорде, куда в 1962 году перебрался неугомонный Джон Маккарти, превратив университет в настоящий центр космических баталий. Свидетельства о бессонных ночах за игрой задокументированы даже в Университете Миннесоты.
В 1970 году Нолан Бушнелл, вдохновленный этой идеей, основал компанию по разработке видеоигр (сначала под мудреным именем Syzygy, а позже — легендарную Atari). Его целью было перенести университетскую забаву в народ, создав аркадную версию под названием Computer Space.
Эхо того первого взрыва звучало еще долго. Влияние «Spacewar!» ощущалось вплоть до 90‑х годов, когда Star Control и ее эпическое продолжение The Ur‑Quan Masters познакомили уже мое поколение геймеров с классикой жанра — бессмертной дуэлью двух кораблей на орбите смертоносной звезды.
Впрочем, подавляющее большинство пользователей мини-компьютеров, лишенных роскоши графического экрана, вовсе не чувствовали себя обделенными.
Игры на телетайпах, ограниченные сухим вводом и выводом текста, затягивали ничуть не меньше. Ассортимент развлечений простирался от примитивных «угадаек» до сложнейших стратегических баталий вроде шахмат.
Энтузиасты обменивались рулонами перфорированных по краю лент из рук в руки, но главным «дилером» развлечений выступало сообщество DECUS. Уже в первом выпуске их бюллетеня DECUSCOPE за 1962 год прозвучали дифирамбы «SpaceWar!», а в 1964‑ом в общедоступной библиотеке появилась простенькая игра в кости.
К ноябрю 1969 года игровой раздел каталога DECUS разросся до тридцати семи наименований. Там соседствовали простецкие «Виселица» и «Блэкджек» с такими серьезными вещами, как «SpaceWar!» и «The Sumer Game» — экономическим симулятором управления ресурсами в условиях бронзового века.
Зацените: каталог научных и инженерных приложений — то есть та самая «серьезная» причина, ради которой люди вообще покупали эти дорогие машины, — насчитывал всего пятьдесят восемь позиций. Разрыв был минимальным.
Игривое настроение выплескивалось не только в создание видеоигр. Хакеры из MIT писали тонны кода просто ради чистого удовольствия.
В их арсенале были генератор дребезжащей музыки и конвертер арабских цифр в римские. Вершиной самоиронии стали программы с говорящими названиями: «Дорогой настольный калькулятор» (чтобы считать простую арифметику на машине за 120 000 долларов!) и «Дорогая пишущая машинка» (для набора эссе).
Мысль о том, чтобы применять компьютер для какой‑то практической пользы или реального результата, посещала их далеко не всегда. Многие самозабвенно создавали инструменты для написания и отладки кода, даже не задумываясь, зачем они нужны, кроме как для самого процесса. Как гласила народная хакерская мудрость: «Процесс отладки зачастую куда интереснее, чем использование уже отлаженной программы».
По мере того как интерактивные вычисления мигрировали с элитарных мини-компьютеров в демократичные системы с разделением времени, менялся и портрет пользователя.
Среди новой волны энтузиастов становилось все меньше тех «технических гурманов», обладающих изысканным вкусом и навыками, чтобы получать эстетическое наслаждение от написания компиляторов или копания в отладчиках.
Зато порог вхождения упал: многие из этих новичков вполне могли набросать игрушку на BASIC. А уж играть в результат мог вообще кто угодно.
К 1970 году игры на BASIC стали доминирующей силой, главным культурным пластом цифровых развлечений. Хотя и не единственным: где‑то в параллельной вселенной Университета Иллинойса и Control Data Corporation процветала своя, особая субкультура вокруг системы PLATO.
И, как и в эпоху первых мини-компьютеров, балом здесь правил текст. Графические дисплеи все еще оставались экзотикой для избранных, поэтому почти все игры на BASIC полагались исключительно на силу слова и воображения.
Дейв Ахл, занимавший в DEC пост менеджера по образовательному маркетингу, придумал отличный ход. Он начал публиковать листинги игр на BASIC прямо в корпоративном рекламном бюллетене EDU.
Репертуар был пестрым. Кое‑что Ахл писал сам — например, знаменитую Hamurabi, свою версию той самой «Шумерской игры». Но многое присылали сами пользователи — школьники и студенты, добравшиеся до систем DEC в своих учебных классах.
Успех был настолько оглушительным, что в 1973 году DEC выпустила отдельный сборник — «101 компьютерная игра на BASIC» (101 BASIC Computer Games). Книга разлеталась как горячие пирожки, выдержав три переиздания.
Уходя из компании, Ахл совершил стратегически гениальный поступок: он мудро сохранил права на эту книгу за собой. В 80‑х, когда грянул бум домашних ПК, он продал более миллиона экземпляров новому поколению пользователей.
Хотя многие из этих игр были всего лишь цифровыми клонами привычных настолок или карточных колод, другие — вслед за «SpaceWar!» — прокладывали путь к совершенно новым, уникально компьютерным форматам развлечений.
Было и одно важное отличие: если «SpaceWar!» создавалась для дуэли, то большинство новых хитов предлагали соло-приключения. Компьютер здесь выступал в роли хранителя тайн: он прятал информацию, открывая пользователю новый мир по кусочкам, шаг за шагом, по мере исследования.
Взять, к примеру, «Прятки» (Hide and Seek) — простенькую забаву, написанную старшеклассниками, где нужно было искать людей на координатной сетке. Со временем эта идея мутировала в культовую «Охоту на Вампуса» (Hunt the Wumpus) — сложную игру на выживание в лабиринте, породившую бесчисленное количество подражателей.
Кроме того, диаграмма Венна, объединяющая компьютерных гиков и фанатов «Звездного пути», представляла собой практически идеальный круг. Неудивительно, что вскоре расцвел целый жанр стратегий по мотивам Star Trek.
Самую популярную версию — охоту на клингонов в случайно генерируемых секторах галактики — создал инженер Майк Мэйфилд. Изначально он написал ее для мини-компьютера Hewlett-Packard (HP) — предположительно, того самого, что стоял у него на работе.
Ведь DECUS были не единственными, кто практиковал шеринг кода. Star Trek Мэйфилда попал в библиотеку пользователей HP, оттуда добрался до Дейва Ахла, а тот уже перевел его на народный BASIC. Вслед посыпались новые версии, включая хит 1974 года — Super Star Trek от Боба Лидома.
Традиции сообщества BASIC невероятно ускорили эволюцию игровых серий по одной простой причине: каждая игра распространялась в открытом текстовом виде. Счастливчикам доставался физический носитель — бумажная перфолента или магнитная кассета, с которой код залетал в память компьютера по тем меркам молниеносно.
В противном случае — например, при покупке той самой книги Ахла, — предстояли часы утомительного ручного набора, чреватого опечатками и нервным тиком.
Но у этой медали была и золотая сторона: каким бы путем игра ни попадала к пользователю, он получал полный доступ к исходному коду. Его можно было читать, разбирать на винтики и — главное! — менять по своему усмотрению.
Хочется немного облегчить себе жизнь в Star Trek от Ахла? Нужно просто найти подпрограмму в строке 3790 и подкрутить урон на максимум.
Чувствуется прилив амбиций? В строке 1270 можно вписать в главное меню совершенно новую команду — например, «Произнести вдохновляющую речь перед экипажем».
![Фрагмент кода игры Civil War, симулятора, созданного старшеклассниками в Лексингтоне, штат Массачусетс, в 1968 году и включенного в книгу ахла «101 компьютерная игра на языке BASIC». Набрать что‑то подобное на собственном компьютере требовало большого терпения [ахл, 101 компьютерная игра на языке BASIC, 81]. Фрагмент кода игры Civil War, симулятора, созданного старшеклассниками в Лексингтоне, штат Массачусетс, в 1968 году и включенного в книгу ахла «101 компьютерная игра на языке BASIC». Набрать что‑то подобное на собственном компьютере требовало большого терпения [ахл, 101 компьютерная игра на языке BASIC, 81].](https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/upload_files/471/f5a/7db/471f5a7db28b1201c2b420bc63e7b4cf.jpeg)
Примечание переводчика
Не все молодые читатели Хабра сразу поймут, почему так пляшут буквы на распечатке выше.
Мы видим фирменный почерк барабанного принтера. Процесс печати напоминал стрельбу по движущимся мишеням: массивный цилиндр с буквами быстро вращался, а молоточки ударяли по нему через ленту по бумаге, пытаясь «поймать» нужный символ на лету. Каждый электромагнит срабатывал с крошечной разницей в скорости — этим и объясняется некоторый разброс знаков по высоте.
Я застал такие. Только не помню, ходил уже тогда в школу или еще нет.:)
Пожалуй, самым плодовитым автором игр той эпохи стал Дон Даглоу. В 1971 году он «заболел» компьютером DEC PDP‑10, обнаружив терминал с разделением времени прямо в своем общежитии в колледже Помона, к востоку от Лос‑Анджелеса.
В последующие годы он выдал на‑гора впечатляющий список хитов: собственную версию Star Trek, бейсбольный симулятор, игру-исследование подземелий по мотивам Dungeons & Dragons и многое другое.
Такой марафон длиной в карьеру стал возможен благодаря тому, что Даглоу надолго пустил корни в Помоне, обеспечив себе бесперебойный доступ к машине. В общей сложности он провел там девять лет, последовательно меняя статусы: студент, аспирант и, наконец, преподаватель.
К началу 1970‑х тысячи энтузиастов, подобных Даглоу, открыли для себя удивительно податливый цифровой мир. Стоило лишь освоить правила игры, и компьютер превращался в бесконечный конструктор. Из этого цифрового «пластилина» можно было вылепить что угодно: хоть скрупулезную реконструкцию давно исчезнувшей древней цивилизации, хоть целую галактику, кишащую враждебными клингонами.
Однако большинству влюбленных в новые технологии повезло куда меньше, чем Дону Даглоу. Их держали на расстоянии вытянутой руки от объекта их страсти.
Студент, еще мог тайком пробираться к университетскому мейнфрейму по ночам. Но стоило получить диплом — и доступ закрывался навсегда. Оставались лишь компромиссы:
кто-то, скрепя сердцем, платил за аренду пары часов в неделю через сервисы разделения времени;
кто-то посещал общественные компьютерные центры — вроде того, что открыл Боб Альбрехт в Менло-Парке;
а кто-то, подобно Майку Мэйфилду, вынужден был выпрашивать у начальства разрешение задержаться после работы, чтобы поиграть на офисной машине.
Но все это были полумеры. Настоящей мечтой, идеей «фикс», стала мысль о собственном компьютере дома. Чтобы включать его не по расписанию, а по велению души. Именно из этой неутоленной жажды и родилась потребность в персональном компьютере.
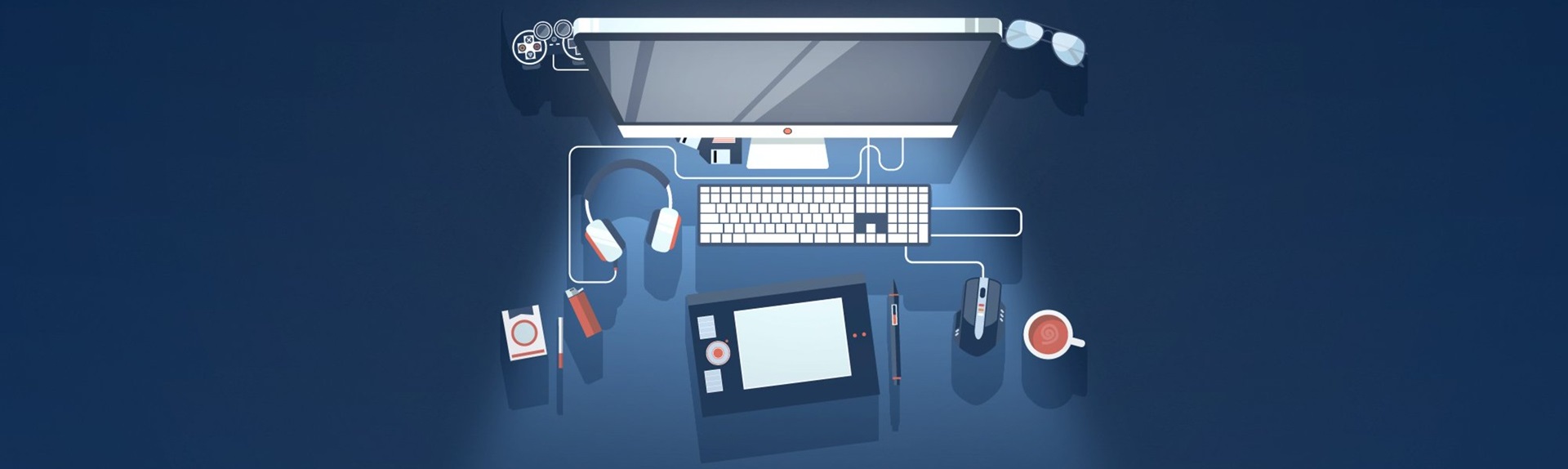

ErshoffPeter
Статья шикарная! Хоть и немного сумбурная.
Нуии опечатки есть немного: "аллергия".
oneastok Автор
У меня тоже аллергия на опечатки. :) Вычитывал утром еще раз и сейчас бегло пробежал — в упор не вижу. Не подскажете, где именно? Можно в личку, чтобы не засорять чат.. Я оперативно поправлю.